Царство растений настолько обширно и разнообразно, что часто удивляет нас. Чтобы ответить на многочисленные легенды, мифы и мистификации, связанные с миром ботаники, Eduardo Bazo Coronilla публикует «Тайную жизнь растений». Сегодня мы открываем одну из его глав исключительно.
Ботаника - это раздел биологии, который отвечает за изучение растений во всех их аспектах. В частности, это научная дисциплина, которая интересуется растениями в самых разных аспектах. И подход к своему исследованию, как говорит биолог из Университета Севильи Эдуардо Базо Коронилья, «является чем-то поистине волшебным и наполненным символическими коннотациями».
Однако многие из этих символических коннотаций сохранились и по сей день, многие из которых состоят из мистически-фантастических повествований, которые в конечном итоге породили мистификации, мифы и легенды.
Книга «Тайная жизнь растений» пытается выяснить, что является правдой во многих ботанических мистификациях, которые повторяются до сих пор. А по случаю выхода этой книги в издательстве Pinolia мы показываем вам эксклюзивную главу.

Тайна бесследно исчезнувшего растения
Я признаю себя немного непримиримым с заблуждениями, связанными с ботаникой. Одним из них является глупая мания, проявляемая некоторыми историками и профессиональными коллегами, основанная на принижении или оскорблении римского вклада в знания о растениях. Они могут казаться менее многочисленными или важными, чем у арабов, это верно, но римляне развили зарождающуюся агрономическую заботу, до того известную только в Древнем Египте, от которого они взяли много идей. Каждый раз, когда вы находите сложные геометрические фигуры или силуэты животных, вырезанные в садах, подобных версальскому, знайте, что эти формы разработаны в соответствии с заветами ars topiarius, искусства ландшафтного дизайна. И мы даже знаем имя ее создателя, Гая Мация (100-40 гг. до н. э.), которого Цицерон охарактеризовал как «наиболее приятного и высокообразованного человека». Андре Ленотр только адаптировал топиарное искусство под вкусы французского Людовика XIV (1638-1715).
Также они разбили в своих домах частные сады: хорти или сады, которые в итоге превратились в роскошные сады. И дело в том, что Римская империя также была затронута спекуляциями с недвижимостью. Существует немало римских текстов, описывающих растения, независимо от того, использовались ли они в лечебных, косметических, вкусовых или пищевых целях. Точно так же мы знаем от таких авторов, как Плиний Старший (23-79), что такие виды, как мирт (Myrtus communis) или лавр (Laurus nobilis), должны были быть существенной частью любого уважающего себя сада. Конечно, в этих садах выращивались травы, произрастающие в Средиземноморье. Но какие травы! По словам Атенео де Наукратиса (170-223), в хорошей римской кладовой должен был быть список основных приправ, также известных как артимата, ни один римлянин не мог пропустить «изюм, соль, вареное вино, сок сильфиума, сыр, чабер, кунжут, натрон, тмин, сумах, мед, орегано, травы, уксус, оливки, овощи для соуса из трав, каперсы, яйца, соленая рыба, кресс-салат и листья инжира.
Из предыдущего списка сегодня мы смогли найти -почти- все перечисленные приправы. Это правда, что в некоторых случаях необходимо иметь небольшое научное представление, чтобы выяснить, что за сумахом стоит Rhus coriaria, член семейства Anacardiaceae, из плодов которого римляне извлекали подкисляющее вещество, которое они использовали в винегретах. Со своей стороны, чабер (Satureja hortensis) - однолетнее растение, придающее характерный пряный оттенок. Таким образом, вместе с солью и паприкой они составляют знаменитую «цветную соль», которую употребляют в странах Восточной Европы, таких как Румыния или Болгария. И если вам интересно, зачем римлянам понадобился натрон -NaCO3-, я вам скажу, что, добавляя его в воду для варки овощей, они сохраняли их зелеными после варки. Внешний вид и презентация решают все, даже до появления феномена «Dominus culini». Так какую же из всех этих приправ в настоящее время невозможно найти в магазинах семян? Ну, сильфиум или лазерпицио. Чтобы поставить вас на задний план: за это были заплачены настоящие сокровища. Он так ценился греками и римлянами, что Плиний Старший даже писал о нем в своей «Естественной истории», что «лазерпица, которую греки называют сильфионом, родом из Киренаики, чей сок называется лазером, превосходна для медицинского применения и тяжела. «в серебряных денариях». Но каждая история заслуживает того, чтобы ее рассказали с самого начала.
По разным летописям, около 7 века до н.э. C. группа греческих поселенцев покинула остров Тера - нынешний Санторини - следуя указаниям Дельфийского оракула. Таким образом они прибыли к берегам Ливии, где в 632 г. до н.э. К. основал город Кирена - нынешний Шаххат-, который вскоре стал крупнейшим центром купли-продажи товаров в Средиземноморье, получив известность благодаря качеству своего звездного продукта: сильфиума или лазерписа. На самом деле, Теофраст в своей «Истории растений» сообщает нам, где она возникла:
«Этот завод занимает обширную территорию Ливии: более четырех тысяч стадий. Больше всего гнездится в Сирте, который находится недалеко от островов Эвесперидес».
Согласно тому, что сообщает нам Теофраст, ареал распространения сильфия будет ограничен узкой полосой ливийского побережья размером 200 х 50 километров, граничащей с пустыней. Самое подробное известное описание также принадлежит ему и указывает, что «сильфий имеет большое количество толстых корней, [и] его стебель размером с локоть». Это также указывает на то, что его листья, называемые maspetum, похожи на листья петрушки. Подобным образом высказывается Плиний Старший, который утверждает, что это «дикое и невозможное для выращивания растение с сильными и обильными корнями и стеблем, подобным асафетиде». Имея эти данные, мы можем знать, что он должен принадлежать к семейству Apiaceae, более того, сам Плиний указывает, что наступило время, когда сильфий стали подмешивать в другие продукты, так как «с тех пор не было ввезено никакого другого лазера, кроме персидского»., Мидию и Армению, где он растет в изобилии, хотя и намного меньше, чем в Киренаике, а также разбавлен камедью, сакопенией или молотыми бобами. Излишне говорить, что эта лазерпиция, привезенная из Персии, Мидии и Армении, не была «первоначальным сильфием», произраставшим только на ливийском побережье, но так случилось, что римляне обычно знали под этим названием несколько растений рода Ferula, которые они только общими являются производители каучуковой смолы. Между прочим, сакопениум - это то, как римляне знали укроп (Anethumgraveolens), еще один член семейства Зонтичных, который был бы настолько похож на сильфий, что его даже использовали, чтобы давать кота в мешке.
Silphium или laserpicio разбавляли такими растениями, как укроп или асафетида (Ferula assafoetida) из-за множества применений, которые ему давали, как мы видели. Стебли сильфиума запекали, жарили или варили, чтобы их можно было есть, как если бы это был любой другой овощ. Точно так же мы знаем, что из его бутонов извлекали ароматические духи и что его сок, очень ценную смолу-камедь, натирали на самые изысканные и нежные деликатесы. И вдруг бесследно исчез с лица Земли. И что его сбор был регламентирован уже во времена Юлия Цезаря! Конечно, римский император хранил в качестве сокровища более шестисот килограммов этой травы для «личного потребления». Этот факт указывает на то, что для этого продукта должен был существовать большой черный рынок, который каким-то образом мог ускорить его исчезновение. Экологи и ботаники не вполне сходятся во мнении о причинах, приведших к его упадку и исчезновению, но к узкой полосе, где он развивался и невозможному, добавилась предполагаемая чрезмерная эксплуатация, вызвавшая его высокую цену на рынке и растущий спрос на продукт. культивировать. Точно так же кажется доказанным, что в то же время произошел ряд климатических изменений, которые привели к значительному увеличению засушливости Северной Африки, что также сочеталось со склонностью скота к пастбищу везде, где он рос. Все одновременно привело к тому, что с первого века мы не имели больше известий о ее существовании. На самом деле последний стебель сильфиума был отдан Нерону, по свидетельству Плиния.
Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что Laserpicius или silphium не являются и не будут единственными видами, которые люди привели к исчезновению в результате их чрезмерной эксплуатации. Будьте осторожны, это ни при каких обстоятельствах не отменяет того факта, что остальные упомянутые факторы сыграли заметную роль в ускорении или усилении их исключения из генофонда.
Знаете ли вы историю сандалового дерева Хуана Фернандеса (Santalum fernandezianum)? Этот вид семейства Santalaceae был эндемиком чилийского архипелага Хуана Фернандеса, образованного островами Робинзона Крузо и Алехандро Селкирк и островом Санта-Клара. Сандаловое дерево Хуана Фернандеса характеризовалось своим ароматом, как и его сестра, сандаловое дерево (Santalum Album). Помимо ароматических палочек, древесина S. fernandezianum использовалась для вырезания религиозных изображений. По крайней мере, до 1908 года, когда шведский ботаник и исследователь Карл Скоттсберг (1880-1963) сфотографировал то, что предположительно было последним сандаловым деревом Хуана Фернандеса. Его видели в овраге вместе с образцами Myrceugenia fernandeziana, и к тому времени, когда Скоттсберг вернулся к Хуану Фернандесу в 1916 году, образец уже исчез. Что-то похожее на то, что происходит с сандалом в Индии, где он был объявлен «национальным достоянием», чтобы немного защитить его от вырубки лесов, и я говорю немного, потому что, несмотря на то, что это вид, внесенный в список МСОП как «уязвимый» -VU-, допускается рубка экземпляров старше тридцати лет. Это не должно иметь большого значения, если мы позволим семенам правильно развиваться и дать начало новым особям. К сожалению, семена сандалового дерева используются для изготовления малас, своего рода четок со ста восемью бусинами, которые буддисты и индуисты используют для чтения своих мантр или во время молитвы.
Однако, если есть место, где люди уничтожили несколько видов растений в прошлом тысячелетии, то это, несомненно, остров Пасхи. Наиболее известным случаем является случай с пальмой Рапа-Нуи (Paschalococcos disperta), которая исчезла около 1650 года, дата, известная благодаря различным исследованиям палинологической летописи окаменелостей. Однако есть и другой факт, подтвержденный историками: между 800 и 1500 годами население рапануев росло в геометрической прогрессии. Этот демографический взрыв привел к перегрузке экосистемы и, как следствие, к интенсивной вырубке лесов. А что рапануи получили от P. disperta? В дополнение к древесине, из которой строят каноэ для рыбалки, они также потребляли сердцевину пальмы, высоко ценимый деликатес, который получают только путем извлечения ее из нежной сердцевины, расположенной рядом с ножкой пальмы. После удаления коры, а также волокнистых и жестких внешних слоев у нас остается беловатый побег с мягкой и гибкой текстурой. Значит, мы просто обязаны уничтожить пальму, чтобы получить богатый сахарами продукт, вес которого колеблется от пятисот до тысячи граммов, верно?
Другой вид, который Рапануи довели до исчезновения, - это торомиро (Sophora toromiro), член семейства Fabaceae. По крайней мере, вымерший в своем диком состоянии, поскольку он выживает в ботанических садах, таких как сад в Бонне (Германия) или в Дендрарии Южного университета Чили. И хотя это менее известная история, чем история пальмы Рапа-Нуи, она гораздо интереснее. Известно, что первое описание торомиро принадлежит натуралисту Иоганну Георгу Адаму Форстеру (1754-1794), который думал, что это кустарниковый вид мимозы. Его древесина имела множество применений для жителей острова Пасхи, которые использовали ее в качестве строительного материала и для изготовления предметов домашнего обихода. Однако только в 18 и 19 веках этот вид пришел в упадок, сразу после появления домашних животных. Франсиско Фуэнтес, глава отдела ботаники Музея естественной истории Чили, в 1911 году отправил Карлу Скоттсбергу местонахождение верхнего этажа. В этом случае человек все еще стоял и собирал семена и другие образцы, с помощью которых он правильно описал вид. Позже, по случаю экспедиции на остров Пасхи в 1955 году, норвежский этнограф Тур Хейердал (1914-2002) также собрал семена этого же экземпляра, расположенного рядом с кратером Рано-Кау. Эти семена, все соответствующие одному и тому же стручку, были доставлены в Европу и выращены в Гетеборгском ботаническом саду. Любопытно, что шестьдесят три потомка этой стаи, собранные Хейердалом, были повторно интродуцированы в 1995 году в их естественную среду обитания с катастрофическими результатами.
Не знаю, заметили ли вы, но все существующие в мире торомиро происходят из семян этого экземпляра Рано Кау. Все, кроме ботанического сада Мельбурна -Австралия-, чьи семена были получены из Англии!
В настоящее время почти двести торомиро, привитых к Sophora cassioides, родственному виду, растут в Национальном заповеднике Lago Peñuelas -Чили-. Этот проект является еще одной попыткой получить семена, которые позволят детально изучить биологию вида, чтобы, возможно, в ближайшем будущем его можно было снова ввести в его естественную среду обитания. В качестве любопытства, чтобы сообщить вам, что торомиро, которые можно увидеть в Ботаническом саду Барселоны, являются «ложными», Майк Маундер, ботаник из Кембриджского университета, внес в каталог линию «Titze» как настоящие торомиро, предварительно не проверив их происхождение.. В настоящее время генетические анализы уладили этот вопрос, установив, что это гибрид, и его перестали использовать в планах сохранения. Однако время от времени появляются новости о том, что различные учреждения или отдельные лица привозили на остров гибридные экземпляры торомиро.
Проблема размещения гибридных или «ложных» торомиро на острове Пасхи не что иное, как включение экзотических видов в среду обитания, которая не является их собственной, с последствиями, которые это может иметь для экосистемы. Таким образом, если бы вид приобрел инвазивный образ жизни из-за отсутствия конкуренции - или из-за его способности более эффективно колонизировать новые места обитания - вместо спасения одного таксона от вымирания мы могли бы привести к исчезновению других. Я хочу отметить, что если какой-либо вид исчезает с островного анклава, то это происходит навсегда. Римляне решили проблему потери сильфия, используя в своих рецептах асафетиду (Ferula assafoetida). Они только изменили происхождение смолы, которую после высыхания распыляли на посуду, но чего они не могли заменить, так это экологической роли, которую играл сильфий. То же самое происходит на острове Пасхи с Sophora toromiro, Paschalococcos disperta или Dianella spp. Изменения климата вместе с деятельностью человека изменили ландшафт и растительность острова за последние два тысячелетия, что привело к исчезновению многих видов. Аналогичным образом, исчезновение эндемичной флоры уступило место интродукции экзотических видов, таких как Melinis minutiflora, Eucalyptus spp, Psidium guajava или Crotolaria grahamiana. И будьте осторожны, потому что последние два уже являются инвазивными видами.
Короче говоря, римляне никогда больше не могли приготовить pullum laseratum -лазерпице из курицы-, но мы до сих пор не знаем, что потеря видов и, следовательно, биоразнообразия ставит под угрозу благополучие человека Неужели это так серьезно, что мы больше никогда не попробуем конкретное блюдо? Серьезным является ухудшение состояния почвы или воды. Таким образом, отсутствие растительного покрова увеличивает вредоносность стока в случае проливных дождей, потому что растительность не дает нашим почвам терять плодородие, что очень важно для нашего рациона. Мы согласны? И это не говоря о том, что дисбалансы в экосистемах могут способствовать появлению вредителей, повреждающих урожай. «Реинтеграция» природы в нашу жизнь позволит нам выполнить нашу биологическую функцию, потому что, как сказал Азимов, «есть только одна война, которую люди могут себе позволить: война против собственного вымирания».
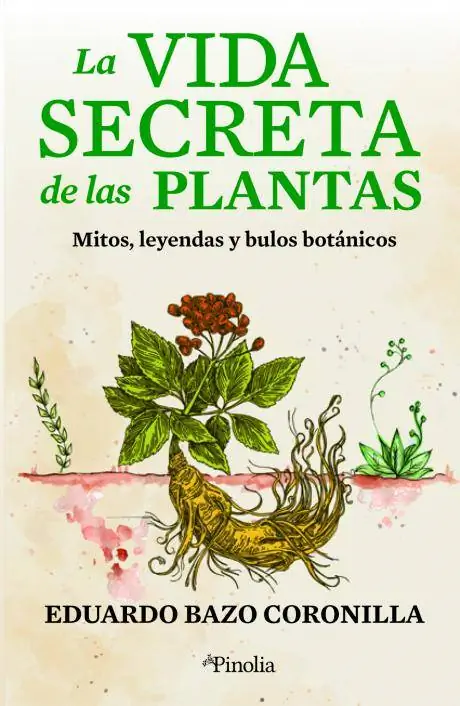
Тайная жизнь растений
24, 95€
Получить копию здесь
